|
|
| |

|
||
| Русская поэзия начала - середины XX века | Александр Твардовский | ||
Александр Твардовский
1910-1971
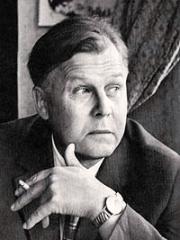 Александр Трифонович Твардовский (1910-1971), поэт. Родился 8 июня (21 н.с.) в деревне Загорье Смоленской губернии в семье кузнеца, человека грамотного и даже начитанного, в чьём доме книга не была редкостью. Первое знакомство с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Некрасовым состоялось дома, когда зимними вечерами читались вслух эти книги. Стихи начал писать очень рано. Учился в сельской школе. В четырнадцать лет будущий поэт начал посылать небольшие заметки в смоленские газеты, некоторые из них были напечатаны. Тогда он отважился послать стихи М. Исаковскому. Работавший тогда в редакции газеты «Рабочий путь» Михаил Васильевич, принял юного поэта, помог ему не только напечататься, но и сформироваться как поэту, оказал влияние своей поэзией.
После окончания сельской школы приехал в Смоленск, но не мог устроиться не только на учёбу, но и на работу, потому что у него не было никакой специальности. Пришлось существовать «на грошовый литературный заработок и обивать пороги редакций». Когда в московском журнале «Октябрь» М. Светлов напечатал стихи Твардовского, тот приехал в Москву, но «получилось примерно то же самое, что со Смоленском».
Подробнее...
Александр Трифонович Твардовский (1910-1971), поэт. Родился 8 июня (21 н.с.) в деревне Загорье Смоленской губернии в семье кузнеца, человека грамотного и даже начитанного, в чьём доме книга не была редкостью. Первое знакомство с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Некрасовым состоялось дома, когда зимними вечерами читались вслух эти книги. Стихи начал писать очень рано. Учился в сельской школе. В четырнадцать лет будущий поэт начал посылать небольшие заметки в смоленские газеты, некоторые из них были напечатаны. Тогда он отважился послать стихи М. Исаковскому. Работавший тогда в редакции газеты «Рабочий путь» Михаил Васильевич, принял юного поэта, помог ему не только напечататься, но и сформироваться как поэту, оказал влияние своей поэзией.
После окончания сельской школы приехал в Смоленск, но не мог устроиться не только на учёбу, но и на работу, потому что у него не было никакой специальности. Пришлось существовать «на грошовый литературный заработок и обивать пороги редакций». Когда в московском журнале «Октябрь» М. Светлов напечатал стихи Твардовского, тот приехал в Москву, но «получилось примерно то же самое, что со Смоленском».
Подробнее...
За далью – даль (отрывок)
Александр Твардовский читает отрывок из поэмы
|
Сортировать:
|
|
по популярности
|
|
|
1.
За далью – даль (отрывок)
Александр Твардовский читает отрывок из поэмы
2.
Александр Твардовский
Часть 1. Телеальманах: Поэты России ХХ век. Программу ведёт Смирнов Владимир Павлович, профессор Литературного института им. А.М. Горького.
3.
Александр Твардовский
Часть 2. Телеальманах: Поэты России ХХ век. Программу ведет Смирнов Владимир Павлович, профессор Литературного института им. А.М. Горького.
СТИХИ
* * *
В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счёт салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.
В конце пути, в далёкой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мёртвыми прощаются живые.
До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учётный.
Мы с ними шли дорогою войны
В едином братстве воинском до срока,
Суровой славой их озарены,
От их судьбы всегда неподалёку.
И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали.
Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях.
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег.
И, чуя там сквозь толщу дней и лет,
Как нас уносят этих залпов волны,
Они рукой махнуть не смеют вслед,
Не смеют слова вымолвить. Безмолвны.
Вот так, судьбой своею смущены,
Прощались мы на празднике с друзьями.
И с теми, что в последний день войны
Еще в строю стояли вместе с нами;
И с теми, что её великий путь
Пройти смогли едва наполовину;
И с теми, чьи могилы где-нибудь
Еще у Волги обтекали глиной;
И с теми, что под самою Москвой
В снегах глубоких заняли постели,
В ее предместьях на передовой
Зимою сорок первого;
и с теми,
Что, умирая, даже не могли
Рассчитывать на святость их покоя
Последнего, под холмиком земли,
Насыпанном нечуждою рукою.
Со всеми - пусть не равен их удел,−
Кто перед смертью вышел в генералы,
А кто в сержанты выйти не успел −
Такой был срок ему отпущен малый.
Со всеми, отошедшими от нас,
Причастными одной великой сени
Знамён, склоненных, как велит приказ,−
Со всеми, до единого со всеми.
Простились мы.
И смолкнул гул пальбы,
И время шло. И с той поры над ними
Берёзы, вербы, клёны и дубы
В который раз листву свою сменили.
Но вновь и вновь появится листва,
И наши дети вырастут и внуки,
А гром пальбы в любые торжества
Напомнит нам о той большой разлуке.
И не за тем, что уговор храним,
Что память полагается такая,
И не за тем, нет, не за тем одним,
Что ветры войн шумят не утихая.
И нам уроки мужества даны
В бессмертье тех, что стали горсткой пыли.
Нет, даже если б жертвы той войны
Последними на этом свете были,−
Смогли б ли мы, оставив их вдали,
Прожить без них в своём отдельном счастье,
Глазами их не видеть их земли
И слухом их не слышать мир отчасти?
И, жизнь пройдя по выпавшей тропе,
В конце концов у смертного порога,
В себе самих не угадать себе
Их одобренья или их упрека!
Что ж, мы трава? Что ж, и они трава?
Нет. Не избыть нам связи обоюдной.
Не мертвых власть, а власть того родства,
Что даже смерти стало неподсудно.
К вам, павшие в той битве мировой
За наше счастье на земле суровой,
К вам, наравне с живыми, голос свой
Я обращаю в каждой песне новой.
Вам не услышать их и не прочесть.
Строка в строку они лежат немыми.
Но вы ─ мои, вы были с нами здесь,
Вы слышали меня и знали имя.
В безгласный край, в глухой покой земли,
Откуда нет пришедших из разведки,
Вы часть меня с собою унесли
С листка армейской маленькой газетки.
Я ваш, друзья, ─ и я у вас в долгу,
Как у живых, ─ я так же вам обязан.
И если я, по слабости, солгу,
Вступлю в тот след, который мне заказан,
Скажу слова, что нету веры в них,
То, не успев их выдать повсеместно,
Еще не зная отклика живых, ─
Я ваш укор услышу бессловесный.
Суда живых ─ не меньше павших суд.
И пусть в душе до дней моих скончанья
Живёт, гремит торжественный салют
Победы и великого прощанья.
1948
ГЛАВНЫЙ ПОЭТ ЭПОХИ
 Владимир ФОМИЧЁВ
Владимир ФОМИЧЁВШедшего, как он сам говорил, «За валом огня. И плотней к нему. / Сробел и отстал – крышка!» Александра Твардовского невозможно понять без постижения того «огневого вала» - «бегущего дня». А глубина времени со средины тридцатых до рубежа шестидесятых-семидесятых годов минувшего века, в которые родились творения великого поэта, заключена в следующем. Входившие в название страны слова «советские» и «социалистические» неопровержимо свидетельствуют о партийном характере государственности СССР. Вот ушли из жизни эти сущности – и исчез не только титул, но сама узко запрограммированная Родина вместе с КПСС и сотворенною ею эпохой. Мудрые соотечественники предвидели такой результат с рождения гражданственности, основанной на «диктатуре пролетариата». Чтобы показать это, стоит лишь процитировать лекцию Ивана Павлова «О русском уме», с которой он выступил весной 1918 года в Петрограде: «…В борьбе между трудом и капиталом государство должно стать на охрану рабочего. Но это совершенно частный вопрос… Что сделали из этого мы? Мы загнали эту идею до диктатуры пролетариата. Мозг, голову поставили вниз, а ноги вверх. То, что составляет культуру, умственную силу нации, то обесценено, а то, что пока еще является грубой силой, которую можно заменить и машиной, то выдвинули на первый план. И всё это, конечно, обречено на гибель , как слепое отрицание действительности». Сказано было, согласитесь, гениально, выдающийся соотечественник ничуть не ошибся!
ФРОНТ НАЛЕВО, ФРОНТ НАПРАВО
 Татьяна ЧЕБРОВА
Татьяна ЧЕБРОВАДочь выдающегося советского поэта Александра ТВАРДОВСКОГО Валентина: «Не думаю, чтобы он под конец испортил поэму», – произнёс Иосиф Виссарионович и красным карандашом вписал Твардовского в список будущих лауреатов Сталинской премии».
Именно Твардовский, обратившись к Хрущёву, добился публикации первого советского произведения о том, что творилось за колючей проволокой ГУЛАГа. Этого партбюрократия не простила поэту и во времена брежневщины выдавила из журнала. Он не вынес расправы и вскоре скончался.
Сегодня корни рода Твардовских – дочери поэта Валентина и Ольга, которые систематизируют и издают архивы отца, участвуют в «Твардовских чтениях». Младшая – Ольга Александровна Твардовская – заслуженный художник России, лауреат Государственной премии РФ. Старшая – доктор исторических наук, профессор, работала в Институте российской истории РАН. Она, Валентина Александровна, как и её сестра, считает: «Главное произведение Александра Трифоновича не «Тёркин», на котором все зациклились, не отмеченные премиями поэмы «Страна Муравия», «Дом у дороги», «За далью – даль», даже не поздняя лирика, фактически непрочитанная, а дневники. Они должны были стать основой книги автобиографической прозы «Пан Твардовский» – история его семьи, собственные искания».


